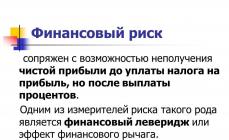ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Нигде не говорят так часто и так много о нравственных вопросах, как в России. Нигде не привыкли так подходить к задачам практического устроения жизни, отправляясь от своего рода категорического императива. Русской интеллигенции была присуща склонность к постоянному морализированию. Но это морализирование было скорее умственным упражнением. Оно не закаляло воли, а расслабляло ее, создавая, с одной стороны, постоянные колебания и сомнения. Русскому интеллигенту всегда всего труднее было на что-нибудь решиться, и он чрезвычайно охотно обращается к подымающимся внутри него нравственным недоумениям. В этом коренное различие от того духовного уклада, ярким выразителем коего были пуритане. Там господствовал нравственный ригоризм, который ставил перед человеческой волей точные и резкие грани. Известные стороны жизни объявлялись запретными. Это делало человеческое существование более бедным и скучным, но зато сохраняло отмеренный человеку избыток сил. В английском пуританстве XVII века сложился тот крепкий закал воли, поставленный на служение божьему делу, который оставил глубокий след на всей психологии английского народа. И это надо сказать именно об англосаксонском сектантстве, которому мало свойственно мечтательное погружение в лирику души. Оно чуждо и участникам библейского эпоса Мильтона , и гонимому своими тревогами пилигриму у Бениана . Как характерна в этом случае разница между похожими, на первый взгляд, немецкими гернгутерами и английскими методистами. Этот морализм насыщен волей, он создает, какой-то холерический темперамент. Мысль, воспитанная в уверенности высшего предопределения, которому учили Августин и Кальвин , проникается не восточным равнодушием фатализма, а спокойным сознанием определенного места в мире, которое указано для каждого человека и его жизненного дела.
Все это очень непохоже на наш наиболее распространенный интеллигентский уклад. Никакая литература не содержит такой обширной галереи портретов лишних людей, как русская. Эти лишние люди вообще не знают, зачем они существуют на белом свете. Их нравственные сомнения никогда не кончаются, перед ними бесконечный ряд вопросов, на:которые они не в состоянии найти ответа. Та поэтическая дымка, которой их окружил Тургенев, постепенно рассеивается, и перед нами открывается собрание чеховских неврастеников. С ними попадаешь в такое царство бессилия и безволия, из которого как будто нет и выхода. Герой Чехова может мечтать об изящной, прекрасной жизни, имеющей появиться на земле через тысячу лет, но он решительно неспособен сделать что-нибудь во имя ее наступления. Он вообще ничего сделать ни для себя, ни для других не может, и его гнетет собственная бессодержательность. Из жизни ничего не вышло, а могло выйти. Ибо и чеховские лишние люди, подобно своим многочисленным предкам, ощущали в себе наличность каких-то возможностей. Припомните эти истерические сетования совершенно запутавшегося дяди Вани, какой в нем погиб мыслитель. И в этом сознании возможностей, которым никогда не суждено осуществиться, есть действительно какая-то правда, потому что этим людям, несомненно, присуще более достойное существование, коего они взыскуют, но есть в то же время и опасная видимость самооправдания.
Главное же - все эти люди целиком погружены в собственную личность. Они в высшей степени субъективны. Всматриваясь и вслушиваясь в самые мимолетные состояния, они относятся с нездоровым равнодушием к окружающему их миру. У них точно заглушено космическое чувство. Поэтому их мироощущение такое скудное, даже у такого здорового предка этих хилых любимцев чеховской музы, как Лаврецкий . И он в окружающей природе увидел только образ собственной старости, догорания собственной бесполезной жизни.
Скажут, что лишние люди представляют только один аспект русской интеллигенции, созданный временными и преходящими обстоятельствами. Их старшее поколение были люди обреченные, ибо они воплощали обреченную среду, принадлежность к которой для них самих раскрылась как некий социальный первородный грех. Они превратились в кающихся дворян. Чеховские герои - герои безвременья в другом смысле. Они вышли в русскую жизнь, когда все яркое, смелое, героическое потерпело в ней крушение, когда в ней образовалось засилие мелких дел. Но сюда не уместить движения 60-х годов с их нигилистическим протестом, ни хождения в народ, ни русского революционного движения. Героическая мораль революционеров с их полным самозабвением, полным отказом от личной жизни, полным подчинением этой жизни объективному делу,- что здесь общего с расслабленным субъективизмом?
Оставим в стороне генеалогические споры, кто кого породил и кто от кого произошел. Важнее другое - что эти разительные контрасты совсем не так глубоки. И прежде всего, кающийся дворянин и есть самое подлинное выражение интеллигентского субъективизма. Кающийся дворянин создал народническое мировоззрение, которое отличается прежде всего полной неспособностью воспринимать социальную действительность как она есть, и создал вместо этой действительности совершенно фантастическую обстановку, где имеется только два тона - розовый и черный. Он выдумал даже субъективный метод в общественных науках, который заменяет познавание истины познаванием собственных настроений. Он создал политическую и социальную программу народничества, в которой вопросы государственного и общественного устроения мыслятся как вопросы нравственного самочувствия и получают ответы, определяемые этой моралью настроений. Неудивительно, если этот кающийся дворянин, верования которого были так призрачны, так мало могли выдержать испытание внешнего мира, должен был уступить место уже совершенно беспочвенному неврастенику.
Мы можем говорить это без всякого нарушения исторической справедливости. Она должна быть в полной мере воздана людям, которые хотели отдать народу долг, взятый их предками, и отдать его, не останавливаясь ни перед какими жертвами. Особенно это относится, конечно, не к учителям, а к ученикам, стремившимся провести учение в жизнь. Но та же справедливость требует, чтобы вся несостоятельность народничества, все ложные и пагубные навыки мысли, которые оно прививало, были разоблачены до конца. Оно было великой помехой по пути не только материального, но и духовного развития России. Ибо это развитие требует прежде всего бережного и отношения, и уважения к культуре,- требует черт, которые менее всего могли быть воспитаны народничеством. Оно проповедовало лишь уравнительную справедливость в самом элементарном ее виде,- справедливость, которая неминуемо должна была пониматься как равнение к низу. Отсюда, например, эта программа уравнительного земельного наделения, которая, если бы когда-нибудь была прочно осуществлена привела бы к общему бесправию, нищете, к возвращению на много веков назад. А ведь предпосылки этой программы могли защищать такие люди, как Н. К. Михайловский, она могла быть принята целыми политическими партиями, которые во всяком случае оказала большое влияние на русскую жизнь.
В чем лежит здесь корень лжи? Опять-таки в этом господстве субъективного морализма. Само по себе распределение земельной собственности вовсе не есть вопрос нравственный. Нравственным является лишь вопрос об обеспечении достойного существования за человеческой личностью и о тех требованиях, которые такое обеспечение ставит общежитию. Та или другая аграрная политика всегда должна в этом смысле иметь исключительно техническое значение. Притом такое обеспечение личности есть вовсе не единственная цель, стоящая перед государством или обществом. Они заинтересованы прежде всего вообще в подъеме народного хозяйства, открывающего возможность для народа в его целом доступ к высшим формам государственности, к созданию новых культурных богатств и т. д. Все это не только необходимо для осуществления права на достойное существование - все это имеет непосредственное этическое значение. Ибо никак нельзя свести блага целого к благополучию хотя бы и всех входящих в него единиц. В этом ошибочность бентемовской формулы высшего блага как наибольшего блага наибольшего числа лиц. Благо государства предполагает за государством высшую реальность, независимую от его состава,- и всякий истинно государственный деятель непосредственно воспринимает эту реальность. Государство для него вовсе не разлагается на бесконечное множество граждан, не только современных ему, но и будущих. Между тем и народничество, несмотря на свое название, несмотря на свою готовность принести в жертву самые бесспорные права и интересы личности, видело в народе лишь массу отдельных людей, конкретнее - массу русских крестьян, живущих в общине, составляющих как бы общерусский мир, с прибавлением обслуживающих этот народ интеллигентов. Никогда народничество не подымалось до идеи нации, никогда оно поэтому не было способно воспитывать здоровое национальное чувство, не могло, потому что отправлялось от узкого кругозора личной психологии. Отсюда, свойственный ему пафос равенства весьма отличается от якобинского равенства. Якобинцы, как и Руссо в «Общественном договоре», хотели равенства как основания для законной власти целого над отдельным гражданином, как основы всеобщей воли (« Volonte generale »). Наши народники искали равенства, чтобы никто не чувствовал себя обиженным и обделенным избытком у своего соседа. Они предпочитали равенство в бесправии наличности права у одной части населения России. Отсюда столь непонятное для нас равнодушие - равнодушие людей 70-х годов - к политической свободе, по крайней мере к единственно возможным формам ее воплощения в России.
Величайшим несчастьем для России было то обстоятельство, что это мировоззрение действительно шло навстречу некоторым вековым навыкам народной мысли. Там тоже привыкли к поравнению, хотя бы это поравнение несомненно сопровождалось обесценением разделяемых таким путем благ. Эти разделы поровну есть, конечно, наиболее простая, если не сказать первобытная, форма, но она получила известное правовое признание как нечто справедливое. «У нас не должно быть гладких, пусть лучше все будут шершавые»,- говорили саратовские крестьяне в 1905 году, объясняя аграрные беспорядки, которые уже тогда не ограничивались помещичьими имениями, а обращались и против более достаточных крестьян. Предложение раздачи поровну сочувственно встречалось в деревне даже там, где оно уже явно нарушало смысл равенства,- хотя бы при распределении продовольственной помощи, на которую притязали и нуждающиеся, и не нуждающиеся в ней. И под знаком подобного поравнения проходила вся современная земельная разруха.
Конечно, наличность этих навыков менее всего может оправдывать народническую идеологию. Она не просветляла этих темных инстинктов, а всячески их поощряла, окружая их ореолом какой-то высшей правды. Представители ее не хотели видеть, что за чувство справедливости здесь сплошь и рядом принимается простое чувство зависти. Они не хотели видеть, что здесь создается атмосфера, убийственная для роста личности, для отбора способностей, для повышения общего уровня. Будем надеяться, что современные события раскроют глаза многим ослепленным.
Таким образом, народничество есть именно наиболее яркий пример указанного уклона в интеллигентском мышлении и чувствовании. Нельзя противопоставлять этому и примеры русских революционеров. Между ними были люди исключительной воли и исключительной вообще силы духа, но именно они менее всего могли остаться в пределах обычного интеллигентского мировоззрения. Сама громадность задачи заставляла их отрешаться от ряда принятых условных положений и мучительно переживать присущие ей противоречия. Настоящим откровением этой внутренней духовной стороны активной революционной жизни явились произведения Ропшина «Конь бледный» и «То, чего не было». Произведения, надо сказать, встреченные в кругу единомышленников автора весьма несочувственно. Его обвиняли в нарушении традиций. Особенно негодовали на то, что Ропшин показывал невозможность сохранить первоначальную психологию революционного террора. Точно так же нельзя ссылаться на то, что русское движение могло создать таких мыслителей, как Плеханов и Кропоткин . Впрочем, они принадлежат западно-европейскому миру не в меньшей, во всяком случае, мере, чем России. Непохожие до противоположности друг на друга, они не имеют ничего общего и с типичными представителями революционно-митинговой науки и культуры. Как бы они ни были односторонни в отдельных своих политических и социальных взглядах, они исходили из сознания необходимости прежде всего понять окружающий мир как он существует, независимо от человеческих пожеланий. Они всегда чувствовали потребность в богатом и разнообразном опыте. У них была живая любознательность. И когда живая интуиция действительности у них расходилась с партийными взглядами, с которыми у них была близость, они, не колеблясь, отдавали преимущество этой интуиции. Так держались они в вопросе о войне, не смущаясь, что сочувствие они находили лишь в тех кругах, в которых они привыкли встречать своих политических и идейных противников.
Но все это - революционная аристократия, и от нее никак нельзя заключать к плебсу - тем рядовым революционерам, которые работали в подполье и, лишенные возможности продолжать эту работу, отправлялись на Север, Восток и т. д. и эмигрировали. При всех тяжких внешних условиях жизнь в сибирской ссылке обычно оказывалась для них во всяком случае менее разрушительной, чем пребывание за рубежом, ибо в Сибири они легче входили в соприкосновение с реальной жизнью, легче находили дело, которое выводило их из принятых партийных шаблонов и вливало свежую струю в ум и сердце. Вся молодая сибирская общественность неразрывно связана с этими политическими изгнанниками, и только их привлечение сделало возможной культурную работу, на которую там был такой огромный спрос. Это понимали более умные и просвещенные администраторы и сами привлекали людей с очень предосудительным в их глазах политическим формуляром.
С другой стороны, если нужно было искать среду, где вся патология русской интеллегенции раскрывалась бы с исключительной явственностью, этой среды нужно было бы искать в наших эмигрантских колониях с их полной оторванностью от окружающей жизни и народа, как будто бы эти колонии были окружены совсем чуждой им расой, с незнанием даже языка этого народа, с отсутствием интереса к таким очагам общечеловеческой цивилизации, как Париж и Лондон. Гнетущая материальная нужда не возбуждает энергию к исканию выхода, а окончательно как-то ее подрывает. Все время уходило во взаимных упреках, ссорах, в третейских судах, вся умственная жизнь исчерпывалась рассуждениями на программные темы и митингами протеста. Лишь немногие оказывались способными сколько-нибудь использовать свое заграничное пребывание в смысле более широкого образования; лишь весьма немногие сумели проникнуть в жизнь страны, куда занесла их судьба. Большинство же лишь сгущало ту невыносимую атмосферу истерического бессилия, свойственного нашим колониям, которая давала иностранцам часто столь превратное представление о русском национальном характере вообще и которая еще ждет своего бытописателя.
Наши революционные партии, так долго пораженные недугами подполья и эмиграции, не могли от них освободиться даже тогда, когда перед ними открывался путь свободной политической деятельности. Так было в 1905-1906 годах, так было в несравненно большей степени и в 1917 году, когда они оказались у влияния и власти. И какой дорогой ценой заплатила за это Россия!
Субъективный морализм есть один из элементов духовной жизни, необходимых для ее полной гармонии. Но русская интеллигенция страдала его совершенно преувеличенным развитием, при котором невозможно было равновесие ее духовной жизни. В настоящее время все сознают, что неизбежен коренной пересмотр традиционных мировоззрений, коренной перелом в нашем обычном умственном укладе. Без этого слова, которые теперь у всех на устах: «национальное возрождение России», останутся словами.
Проповедники этого возрождения часто страдают излишней верой в силу своих призывов. Они сами легко становятся жертвой морализирующего рационализма. И что значат слова после того огненного испытания, которое дано было России? Эти непреодолимые влечения и перемены, эти приливы и отливы в возмущенной беспримерными катастрофами душевной стихии народа уходят от власти проповедника. Он может быть лишь глашатаем нового дня, который уже занимается, ибо пришло ему время в неисповедимых замыслах Божиих. Задача людей, которые со всей остротой чувствуют свою ответственность за дела и за неделание,- не пытаться исцелять, а лишь указывать пути исцеления, точнее - лишь переводить на обычный язык уже начавшееся стихийно это целительное творчество.
Если искать этого пути для нашей интеллигенции, которая в особенности пережила такой тяжкий, угрожавший самому ее существованию кризис, то, употребляя столь часто повторяемое теперь слово, она нуждается в новой духовной ориентации. Она должна в несравненно большей степени жить интересом к объективному миру, пафосом объективности. Ибо, вглядываясь в ее обычный субъективизм, мы в конце концов не находим даже прочного и устойчивого морального ядра. Она думала найти закон жизни в моральной норме, а за эту норму она принимала сплошь и рядом свои и чужие настроения. Мы постоянно капитулировали перед психологией, ибо считали ее-какие бы ни были отвлеченные наши взгляды - единственной действительной силой. Ссылка на такую «психологическую необходимость» считалась серьезным оправданием даже для явных и достаточно пагубных политических ошибок, как выборгское воззвание . Мы всегда пытались прежде всего уловить настроение, приписывая ему какие-то неограниченные возможности. Опыт, однако, показал, что успех часто принадлежит группам, которые совсем не останавливаются перед такими сомнениями. Здесь источник победы Столыпина над первой думой и большевиков над временным правительством. И рядом с этим мы столько раз оказывались неподготовлены в смысле отсутствия учета объективных возможностей. Наша военная неподготовленность правительства лишь, так сказать, количественно, а не качественно отличалась от общественной.
Но это - ошибки тактического порядка, от которых общества и народы отучаются горькими предметными уроками. Важное здесь - сторона принципиальная. Такой субъективный психологизм весьма легко обращается в чистый оппортунизм. Ибо там, где все внимание устремлено на свои и чужие переживания и последним придается определяющий смысл, там именно нет места для нормы, для заповеди, для принципов, имеющих независимое от душевных состояний бытие. Отсюда - эта столь опасная склонность у нас заменять подлинные, основанные на убедительных данных оценки фактов и действий утверждением наших или чужих к ним симпатий и антипатий. Называя поступок симпатичным и антипатичным, мы в то же время предполагаем обязательность нашего вкуса. Как это ни странно, на почве психологического импрессионизма или психологической рутины,- когда мы симпатизируем или антипатизируем даже не по нашему непосредственному чувству, а потому, что это принято,- рождается лютая нетерпимость, которая, конечно, не имеет оправданий, которые может иметь моральный ригоризм, нетерпимость обращается уже не против целей, а против средств, часто столь разнообразных, к целям ведущих.
Так совершается величайшее духовное заблуждение, столь распространенное в жизни русской интеллигенции. Цель и средство смешивается. Абсолютное и относительное меняются своими местами. Ибо абсолютное вообще отвергается, признается лишь количественно отличным от различных относительных форм, в которых оно воплощено, а относительное возводится в абсолютное. Человек, таким образом, грешит и против первой, и против второй заповеди Моисея . Мы уже говорили, какая тяжелая вина лежит здесь на нашем народничестве. Его этика была чисто психологична, его социология основывалась на своеобразном социальном анимизме. Мировой ход как будто направляется исключительно решениями человеческой воли, которая обладает неисчислимым выбором возможностей. Можно Россию направить по шаблонной дороге западно-европейского капитализма, но можно вести ее напрямик, к берегам социальной гармонии, социальной Аркадии. Можно разрушить нашу сельскую общину, но можно и утвердить ее навеки. Эта народническая методология, если можно так выразиться, оставила на интеллигентском мышлении даже более глубокий след, чем те или другие конкретные народнические построения.
Здесь - крупная заслуга русского марксизма, которая должна быть признана и людьми весьма далекими от утверждений марксизма. Его борьба с народничеством была методологически борьбой за право объективного знания. Нужды нет, что учение о классовой основе человеческого мышления само являлось очевидным отрицанием этого объективного знания. Нужды нет, что позднейшая русская социал-демократия усвоила себе все основные пороки народнического мировоззрения, усваивала их часто в целях простой демагогии, в целях не остаться позади на политическом аукционе. В своих первоначальных заветах марксизм призывал к экономическому реализму, он разрушал ложный народнический идеализм и этим, помимо воли своих представителей, содействовал утверждению в России подлинного идеализма. Самые переходы «от марксизма к идеализму», конечно, не случайны. Разрушается марксистская утопия, она уступает место социальному реформизму, а то для него нужно искать новых источников пафоса, которых не найти в бесплодной пустыне экономического материализма. Но если это преодоление марксизма было необходимым проявлением духовной зрелости, он остался своего рода пропедевтической школой.
В настоящее время русская культура уже эту школу давно оставила позади, и ей предстоит воплотить это устремление к объективному. Прежде всего в науке и искусстве, понятым в их самодовлеющей природе. В народническом понимании они должны служить народу,- и это служение берется в смысле более или менее плоского нравственного утилитаризма. Нет сознания, что этим функциям человеческого духа присуща собственная жизнь, что они не терпят закона, положенного извне. В этом лежит, между прочим, задача организации школы и образования истинно научного, которые должны предохранить от такого утилитаризма и утверждать сознание, что даже полезность науки находится в связи с ее бескорыстием. Демократизация общества вызовет особый запрос на распространение знаний; выражаясь экономическими терминами, обеспечение забот о распределении может даже здесь отвлекать внимание и силы от производства их. Мировая катастрофа, нами пережитая, столь недоступная провидению человеческого разума, столь опрокидывающая его самонадеянные расчеты, может оставить глубокий скептицизм. Для нас, русских, настроение это опаснее, чем для народа с более устойчивой общественной психикой и крепкими традициями - и нисколько не впадая в какие-нибудь суеверные культы, наука же, однако, никак не должна потерять сознания ее объективной значимости, убедительной несмотря на все различия психологические, социальные, племенные.
То же самое можно сказать об искусстве. Народническому мировоззрению свойственно отводить искусству чисто служебное место,- оно в его глазах должно быть тенденциозно. История передвижников дала пример того, к какому эстетическому падению это ведет. Но и вообще здесь наносился еще не оцененный по достоинству удар русской культуре. Поэты и художники должны были обращаться в морализирующих беллетристов. Заглушалась потребность и чувство красоты, и молодые поколения воспитывались в этом смысле с варварской небрежностью. Пушкин был окружен холодно официальными признателями, Тютчев оставался как бы совершенно незамеченным. Еще так недавно наши глаза были поражены какой-то слепотой, и мы равнодушно проходили мимо величайших сокровищ русской иконописи. Правда, в этом смысле совершилась большая перемена. Новое русское искусство окончательно завоевало признание своей самостоятельности. Новая поэзия нашла в нашем языке и непредвиденные возможности воплощения. Скорее можно говорить о преувеличенном и неискреннем эстетизме, который превратился в моду и позу, и даже о своеобразном эстетическом анархизме. Но эти безвкусные и досадные искажения не должны колебать, опять-таки, признания объективной силы искусства - даже в его субъективнейших лирических образцах. Эта сила присуща Лермонтову, как и Пушкину, Шопену, как и Бетховену. Попытка Л. Н. Толстого его опровергнуть опровергает самое себя. Можно быть уверенным, что обратная крайность - господство холодного и условного «парнасского» искусства, искусства формы, исключительный культ их не может у нас утвердиться.
Русская философия точно так же становится на собственный путь. Народничество видело в философии magistrixvitae . Оно суеверно боялось метафизики, как боялось чистого искусства. Еще так недавно можно было у нас встретить расценку философских устремлений мысли по совершенно постороннему критерию - насколько они отвечают политическому или социальному движению. Но это поистине варварское отношение к человеческой мысли в настоящее время, надо надеяться, не может возродиться. Опаснее другое, - чтобы этот столь свойственный нам морализирующий субъективизм не вошел в самую умозрительную работу и не исказил бы ее. Опасно, например, что проблема мира у нас превратится в какое-то построение совершенно условной истины о мире, создание своего рода нравственной рабочей гипотезы. Надо, впрочем, сказать, что эта опасность умаляется явственным характером, присущим новейшему философскому творчеству в России, это творчество явственно тяготеет к онтологии. Если можно говорить о русской национальной философии, то духовная атмосфера ее как бы насыщена бытием. Нельзя примириться с растворением философии в теории познания, что так свойственно германской мысли. Наиболее мощное и яркое течение в русской философии утверждает всеединство, а не замыкается в искусственных узорах индивидуальной умственной игры. В свете этого идеала всеединства нас научили лучше оценивать собственное место в мироздании. Ведь всякий преувеличенный и болезненный субъективизм и есть отпадение от всеединства.
Наиболее важно все это в применении |к миру нравственному. От него не уйдет русская душа, даже если она заблудилась в открывшемся перед ней царстве демонических соблазнов. Когда она придет в себя, то эта безмерная масса содеянного и попущенного зла и страдания должна вызвать и безмерное сострадание, жгущую скорбь. Путь к возрождению ведет через незримые слезы великого покаяния. И это возрождение требует другого опять-таки обращения от себя к окружающему миру. Нужно понять этический смысл тех его элементов, которые возвышаются над личной жизнью. Нужно найти его в таких началах, как национальность, государство, культура, хотя бы наш душевный уклад в данное время от них отталкивался, хотя бы для чувства они казались холодными и бездушными. Манящая к свободе от них душевная склонность рождает соблазнительные призраки. Ибо личность, теряя связь с этими объективно-нравственными и в этом смысле общеобязательными началами,- сама становится бессодержательной и бедной.
Есть два основных типа нравственной философии. Представители одного разделяют мир сущего и мир должного, оставляя человека под властью этого неразрешимого дуализма. Такова философия Канда. Представители другой находят высший между ними синтез, утверждают онтологическую основу нравственных норм. Таково учение Платона. Лишь здесь может найти человеческий дух удовлетворение. Ибо норма, поставленная перед нами лишь как норма, может принадлежать к миру призраков, иллюзий, навязчивых идей. Приписанная нравственному закону автономность, как бы возвышая его, делает непонятной его обязательность. Этика долга при всем своем ригоризме, при всей беспощадности к наиболее сильным и глубоким человеческим чувствам обращается в этику своеобразного, может быть, не единоличного, но коллективного настроения. Моральный деспотизм Брандта отталкивает людей и увлекает их только тогда, когда им дает образ какой-то церкви на горах, которая не только должна, но и может быть построена,- какого-то реального воплощения. Эту реальность добра мораль собственными силами никогда не в состоянии раскрыть, здесь открывается область религии. Ибо если религия открывается нам в потаенных глубинах нашего духа, то ведь религиозный опыт есть самая основа жизни личности, ручательство, что ей присуща и самая высшая объективность, т. е. независимость от переживаний религиозного опыта. И против болезненного сосредоточения человека на его личных переживаниях подымается именно религиозное сознание, и, призывая его к смирению, оно освобождает от гнетущего одиночества, вносит в душу радостный мир. Тогда холодные и непонятные веления категорического императива становятся игом, которое благо, и бременем, которое легко.
На наших глазах произошло величайшее потрясение всех нравственных устоев русского народа, и если вообще мы способны что-нибудь понимать в наших испытаниях, мы должны понять, что эти устои держались сами на более глубоком основании народной веры. Когда она разрушалась и на месте ее насаждались чудовищный культ своеволия и классовой ненависти, этим предопределялась и великая грядущая катастрофа. Но именно здесь сказался инстинкт духовного самосохранения у народа, который, несмотря на все давление и все соблазны, пошел на призыв колокола своего родного храма. Мы еще не можем оценить всей силы этого несомненно начавшегося религиозного возрождения и не знаем, как глубоко пробудилась в душе русской интеллигенции воля к вере и к церкви. Одно можно сказать с уверенностью. Если настроение морализирующего субъективизма оказалось жизненно несостоятельным, то не менее несостоятельной окажется всякая попытка культурного класса построить свою жизнь на отказе и уходе от нравственных запросов. Но лишь тогда эти запросы перестанут выражаться в бесплодных и мучительных потрясениях мятущихся душ, когда они будут осознаны как религиозные искания. Ибо нет тех невыносимых для нашего чувства и нашего ума противоречий, которые бы не разрешились в божественном Разуме и в божественной Любви.
У неиссякаемых живительных источников должна русская интеллигенция искать восстановления своих сейчас столь жестоко надломленных сил. И тогда, излеченная от своих давних умственных извращений и душевных недугов, она найдет в себе и готовность и способность встать на дело творческого воссоздания России, которая является сейчас как бы грудою развалин, свидетельствующей о великом содеянном грехе и великой уже понесенной каре.
[«Из глубины» ] | [Библиотека
«Вѣ
хи» ]
©
2004, Библиотека «В
ѣ
хи»
Сергей Андреевич Котляревский
Котляревский Сергей Андреевич (1873-1939), депутат I Государственной Думы от Саратовской губернии. Котляревский Сергей Андреевич (1873-1939). Историк, правовед, профессор международного права. Один из организаторов партии кадетов, в 1905-1908 член ее ЦК. Депутат I Государственной Думы от Саратовской губернии. Подписал "Выборгское воззвание" 10 июля 1906 года в Выборге и был осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения. С 1908 отошел от политической деятельности, из партии кадетов вышел в 1912. В 1918-1920 активный член подпольных антибольшевистских организаций «Совет общественных деятелей», «Национальный Центр». Был арестован ВЧК. После выхода из тюрьмы занимался научной работой. Репрессирован в 1939 году. Реабилитирован посмертно. Подписал "Выборгское воззвание" 10 июля 1906 года в г. Выборге и осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения.
Использованы материалы сайта http://www.kodeks.ru/
Котляревский Сергей Андреевич (23.07(4.08). 1873- 15.04.1939) - историк, теоретик права, общественный деятель. Окончил историко-филологический ф-т Московского ун-та (1896), с 1900 г. - приват-доцент кафедры всеобщей истории. В 1904 г. защитил докторскую диссертацию («Ламенне и новейший католицизм»). Стоял у истоков создания партии кадетов, с 1905 г. - член ее ЦК. Избирался депутатом I Государственной думы. В 1906 г. участвовал в основании франкмасонской ложи «Возрождение» в Москве. После сдачи экстерном экзаменов на юридическом ф-те Московского ун-та защитил в 1907 г. магистерскую («Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора»), а в 1909 г. докторскую диссертацию («Правовое государство и внешняя политика»). В 1908-1917 гг. работал приват-доцентом курсов Герье, читал лекции по истории Франции и международных отношений. После Февральской революции К. был комиссаром Временного правительства по инославным и иноверным исповеданиям, входил в состав Лиги русской культуры. С июля 1917 г. - товарищ обер-прокурора Синода и товарищ министра вероисповеданий.
К Октябрьской революции отнесся враждебно. Один из авторов сб. «Из глубины». Участвовал в деятельности ряда антисоветских организаций, был приговорен к 5-летнему условному заключению. Впоследствии заявил о своей лояльности советской власти, работал в Институте советского права, журнале «Советское право», Московском ун-те. По обвинению в контрреволюционной пропаганде расстрелян. Философские основания мировоззрения Котляревского - эклектичны: позитивизм и социал-дарвинизм сочетаются с кантианством. Испытал влияние Л. Гумпловича. В философии права развивал идеи естественно-правовой школы. В отличие от большинства юристов-неокантианцев, считавших право главной опорой политико-правового порядка, Котляревский обосновывал др. положение: власть и право являются равноправными субстанциями, их роль в общественном устройстве равновелика. И власть, и право одинаково глубоко укоренены в человеческой природе. Дуализм власти и права приобретает особое значение в условиях правового государства. Несмотря на то, что государство во многом представляет собой «культурно-этическую ценность», оно в огромной степени связано с насилием и стихией эгоизма . Никогда право, по Котляревскому, не подчинит себе государство полностью, не сделает власть окончательно правовой. Внеправовая природа государства ярко проявляется в международных отношениях, особенно в условиях войны. С одной стороны, наличие правового государства предполагает «сознание у граждан ценности права», «любовь к праву», «борьбу за право», что практически означает ценность человеческой личности и ее правовую защищенность, но с другой - признание ценности личности невозможно без сильного государства. Внеправовая природа государства, полагал он, порождает деспотизм. Основными средствами против узурпации власти Котляревский считал отнюдь не формальные юридические механизмы (принцип разделения властей и систему сдержек и противовесов), а само общественное правосознание, содержащее в себе чувство справедливости и ощущение причастности к гармонии божественного миропорядка.
В. Н. Жуков
Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014, с. 297-298.
Далее читайте:
Выборгское воззвание от 10 июля 1906 года (документ).
Сочинения:
Что может дать антропогеография для истории? М., 1900;
Совещательное представительство. Ростов н/Д, 1905;
Власть и право. Проблема правового государства. Спб., 2001;
Война и демократия. М., 1917;
СССР и союзные республики. М., 1924.
Литература:
Шелохаев В. В. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М., 1983; Думова Н. Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988; Она же. Кончилось ваше время... М., 1990; Кроткова Н. В. С. А. Котляревский как теоретик правового государства // Государство и право. 2006. №11; Она же. Государственно-правовые взгляды С. А. Котляровского. М., 2011.
Сергей Андреевич Котляревский – доктор всеобщей истории, доктор государственного права, либеральный общественный и политический деятель, депутат I Государственной Думы, член Конституционно-демократической партии.
С.А. Котляревский был родом из семьи чиновника. Учился в Московском университете, в 1902 г. защитил магистерскую диссертацию «Францисканский орден и римская курия в ХШ и ХIV вв.», в 1904 г. – докторскую «Ламенне и новейший католицизм». Сильное влияние на С.А. Котляревского в период студенчества оказывал профессор В.И. Герье. С.А. Котляревский начал свой путь в науку с исследований трудов мыслителей католического Запада, но впоследствии его заинтересовала тематика правового государства и либеральных реформ. В 1907 г. И 1909 г. С.А. Котляревский написал две диссертации: «Конституционное государство: опыт политико-морфологического обзора» и «Правовое государство и внешняя политика». Был руководителем кафедры государственного права Московского университета до 1917 г. Необходимо отметить, что и после революции С.А. Котляревский продолжил исследовательскую и преподавательскую деятельность.
Общественно-политическая активность С.А. Котляревского проявлялась в участии в деятельности «Союза освобождения» «Союза земцев-конституционалистов», а также в работе в I Государственной Думе.
С.А. Котляревский был одним из создателей Конституционно-демократической партии и членом её Центрального комитета, считая, что политическая партия с региональной инфраструктурой является более предпочтительной формой организации, нежели общественное движение. После подписания Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» на съезде партии С.А. Котляревский призвал депутатов поклясться в том, что даруемая свобода не будет отдана. На съездах партии кадетов поднимались такие проблемные вопросы как о границах возможного вмешательства государства в права человека, о привлечении иностранных инвестиций для решения аграрного и рабочего вопросов, о культурном самоопределении национальностей, разработке проекта конституции и реформировании местного и губернского самоуправления. Последнее заслужило особое внимание С.А. Котляревского. Реформирование местного самоуправления стало целью образования комиссии о местном самоуправлении, созданной ЦК партии кадетов. В процессе деятельности комиссии были рассмотрены вопрос о мелкой земской единице, вопросы пересмотра городового положения и положения о земских учреждениях, введения земства в неземских губерниях, реформы местного управления. В 1912 г Котляревский вышел из состава партии кадетов.
В Государственной Думе С.А. Котляревский являлся членом комиссий о неприкосновенности личности, гражданском равенстве, комиссии по проверке прав членов Государственной Думы и составлению Наказа.
За подписание Выборгского воззвания он был лишен избирательных прав и приговорен к трем месяцам тюремного заключения.
Позднее входил в состав Особого совещания по подготовке проекта Положения о выборах в Учредительное собрание и участвовал в разработке правовых актов Временного правительства.
С.А. Котляревский был комиссаром Временного правительства по иностранным и иноверным исповеданиям, позднее стал товарищем Обер-прокурора Святейшего Синода и товарищем Министра вероисповеданий Временного правительства.
С.А. Котляревский был масоном. Его отношение к Православной церкви совпадает с принципами, выработанными Девятым съездом партии в июле 1917 г., который принял церковный раздел программы, как отмечает А.Н. Медушевский. Прежде всего, речь идет о двух установках: свободе вероисповедания и культа и о признании значительной роли православия. Это признание, на взгляд представителей конституционно-демократической партии, должно было выражаться в покровительстве в законе и материальной поддержке, но никак не в контрольно-административных ограничениях.
После революции в октябре 1917 г. С.А. Котляревский занял оппозиционную позицию по отношению к большевикам. Он входил в состав таких организаций как Правый центр и Всероссийский национальный центр, где разрабатывались вопросы устройства России после свержения большевистской власти. По прошествии некоторого времени С.А. Котляревский оставил политическую деятельность и работал в Институте советского права МГУ, сосредоточив свое внимание на проблемах федерализма, бюджетного права и местного хозяйства.
С.А. Котляревский был обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян в 1939 г.
Основные труды
1. Котляревский С.А. Совещательное представительство. Ростов-на-Дону, 1905.
2. Котляревский С.А. Конституционное государство: опыт политико-морфологического обзора. Спб., 1907.
3. Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. М., 1909.
4. Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских Основных законов. М., 1912.
5. Котляревский С.А. Сущность парламентаризма. М., 1913.
6. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915.
7. Котляревский С.А. Государственное право иностранных держав. М., 1910.
8. Котляревский С.А. История международных отношений в Новое время (Очерк из истории дипломатических сношений). Лекции, читанные в 1916–17 учебном году. Записки слушательниц. М., 1917.
9. Котляревский С.А. Развитие международных отношений в новейшее время. М., 1922.
10. Котляревский С.А. Бюджетное право РСФСР и СССР. М.-Пг.,1924.
11. Котляревский С.А. СССР и союзные республики. М., 1924.
12. Котляревский С.А. Бюджетное право СССР. М., 1925.
13. Котляревский С.А Бюджет и местные финансы. М., 1926.
14. Котляревский С.А Финансовое право СССР. Л., 1926.
15. Котляревский С.А Развитие советского законодательства о местном хозяйстве. М., 1928.
Основные идеи
С.А. Котляревский разрабатывал теории правового и конституционного государств, занимался вопросами международного права при вооруженных конфликтах, работал над теориями местного самоуправления и федерации. В его консервативно-либеральных взглядах исследователи отмечают сочетание национализма, демократизма, этатизма и социализма. Им трансформировались и адаптировались западные политические идеи посредством земского движения в России и парламентаризма.
В своей научной деятельности он использовал политико-морфологический метод – синтез юридико-догматического и социологического методов.
Как отмечает А.Н. Медушевский, на формирование теоретических воззрений С.А. Котляревского оказали значительное влияние А. де Токвиль, Р. Иеринг, Г. Еллинек, П.И. Новгородцев и Л.И. Петражицкий и некоторые другие правоведы.
С.А. Котляревский считал власть и право равноправными субстанциями в организации государства, которые имеют трансцендентную природу. Правовое государство, на его взгляд, представляет собой баланс права и силы, конфликт которых не разрешим.
В правовом государстве верховенство права может быть обеспечено только сильной властью. Правовое государство – это власть, стремящаяся к самоограничению и верховенству права, однако право ограничивает власть до определенного предела, чтобы оно ее не разрушило и не оказалось беззащитным. Пределом действия права являются потребности общества, связанные с властью. Государство, по мнению С.А. Котляревского, никогда не сможет быть до конца правовым, оно поступается позитивным правом в ситуации, когда ставится вопрос о выживании государства как политического организма.
С.А. Котляревский интересовался взглядами Ф. Ницше на феномен власти, но не разделял его точку зрения полностью. С.А. Котляревский не делил волю к власти на волю господ и рабов, утверждая наличие захватных устремлений у людей с различным социальным статусом.
В качестве принципов правового государства С.А. Котляревский выделял справедливость и законность, которые, на его взгляд, являются путеводными звездами, ведущими к праву справедливости. Кроме того, справедливость и законность в его учении представлены в виде элементов правового государства наряду с господством права и правопорядком.
Гарантиями правового государства являются зрелость общественного правосознания и крепость идеальных и религиозных ценностей народа. В усвоении этих ценностей С.А. Котляревский видел выход из кризиса правосознания, а религиозное правосознание считал гарантией против эрозии идеи правового государства. В иерархии ценностей на первое место он ставил религию, на второе – мораль, на третье – право. При этом С.А. Котляревский был сторонником отделения церкви от государства и свободы совести.
Переходя к проблематике конституционного государства, стоит сказать о его соотношении с правовым государством. С.А. Котляревский считал, что на тот момент исторического развития правовое государство могло быть только конституционным, а парламентаризм вне зависимости от формы правления является идеальной формой правового конституционного государства. Кроме того, по его мнению, власть разделена лишь функционально, но, по сути, она едина. Парламентаризм же способен обеспечить единство парламента и правительства, народа и власти.
Правовое государство характеризуется метаюридическим характером, это некая абстрактная формула, в рамках которой может быть различное содержание. Конституционное государство же является более конкретным понятием, которое обозначает реализацию идеи правового государства.
С.А. Котляревский в зависимости от пределов политического самоопределения нации и степени ограничений власти делит государства с конституционно-монархической формой правления на три группы: государства, в которых высокий уровень самоопределения нации (Бельгия, Англия и Норвегия), государства, в которых народное представительство и монархическая власть сильны в равной степени (Швеция, Дания и Италия), и государства, в которых монархическая власть превалировала (германские государства, Россия и Япония).
Основной характеристикой конституционного государства является способность гражданина участвовать в законодательной деятельности. К основополагающим признакам конституционного государства относятся народный суверенитет, представительное правление, федерализм, разделение властей, последовательное осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Консенсус в обществе, по мнению С.А. Котляревского, возможен при сочетании сильной центральной власти и децентрализации.
Что касается вопросов международного права, то С.А. Котляревский обосновывал необходимость международно-правового регулирования интеграционными процессами, ростом разрушительной силы оружия и ценности человеческой личности. Современное государство он считал организацией права и силы, которое должно обеспечивать мир и быть готовым в минуту неизбежных вооруженных конфликтов. Причину вооруженных конфликтов он видел в проблеме интеграции и дезинтеграции.
С.А. Котляревский ставил вопрос о возможности правового государства при неблагоприятном изменении международного права. По его мнению, либеральная концепция не жизнеспособна в условиях вооруженных конфликтов. Решением может быть система стабильных международных договоров на основе общепризнанных ценностей демократического общества. Существовавшая в начале XX века система международных договоров разрушилась, так как она была основана на эгоистических интересах отдельных государств или военных блоков; поэтому она не смогла противостоять классовому интернационализму как неправовой интеграции и национализму как дезинтеграции.
В советском периоде научной деятельности С.А. Котляревский занимался проблемами бюджетного и финансового права, а также теорией федерации, что представляет интерес для науки конституционного права.
Исследователи отмечают, что в своих взглядах на советский конституционный строй и федерализм С.А. Котляревский зачастую был эклектичен, пытался соединить отдельные положения своих дореволюционных работ с партийными установками большевиков.
На его взгляд, между федерацией и унитарным государством различие скорее количественное, нежели чем качественное, федерация и унитарное государство как формы политико-территориального устройства сближаются, поскольку в федеративном государстве нарастает тенденция к централизации, а в унитарном – к децентрализации. В советское время он сохранил это убеждение.
С.А. Котляревский отмечал, что советская федерация имеет серьезные отклонения по признакам федеративного государства, что проявляется в необычно широком политико-правовом статусе союзных республик, однако по существу советское государство представляет собой типичную федерацию с тенденцией к централизации.
С.А. Котляревский – историк и правовед, общественно-политический деятель конца XIX – начала XX века. Разрабатывая теорию правового государства, он выявил его соотношение с конституционным государством. Кроме того, С.А. Котляревский работал над проблемами международного права при вооруженных конфликтах, теориями местного самоуправления и федерации.
Съезды и конференции конституционно-демократической партии. М., 1997. Т. 1. (1905–1907 гг.). С. 541.
Медушевский А. Н. Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX- начала XX вв. М.: Новый хронограф, 2010. С. 409–410.
Кроткова Н.В. Государственно-правовые взгляды С.А. Котляревского: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9.
Медушевский А.Н. Указ. соч. С.393.
Лапаева А. В. Соотношение государства, права и нравственности в воззрениях С.А. Котляревского // Социум и власть. 2012. № 1. С. 68.
Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915. С. 415.
Медушевский А.Н. Указ. соч. С. 394.
Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического разбора. СПб., 1907. С. 27–28.
Кривенцова А.В. Концепция конституционного государства С.А. Котляревского: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 11–12.
Кроткова Н.В. Взгляды С.А. Котляревского на конституционный строй Российской империи и советской России // Государство и право. 2008. № 3. С. 81–82.
Все рассмотренные нами до сих пор различия конституционных государств касались распределения власти между различными их элементами. Между тем над всеми этими различиями возвышается одно, безусловное значение которого не может подлежать спору: насколько широко раздвинуты пределы государственной власти вообще? Остается ли у отдельного члена государственного союза некоторая сфера жизни и действия, куда не проникает рука государственной власти? Оговоримся: несомненно, что юридически власть всякого государства над его гражданами суверенна, т. е. не имеет пределов, что сами права индивидуума точно так же санкционируются этим государственным авторитетом; выражаясь терминологией Иеллинека, мы, изучая права граждан, сферу, которая кажется обеспеченной от посягательств со стороны власти, всегда имеем перед собой акт самоограничения, идущий более или менее далеко. Но дело в том, что такое самоограничение для государственной власти фактически необходимо; она не может фактически использовать до конца свои юридические потенции. Здесь, следовательно, вопрос ставится уже о самом принципе государственности и о примирении его со свободой индивидуума; здесь сталкиваются два величайших результата исторической жизни: новое государство с его огромными материальными силами, с его великими, все расширяющимися законодательными задачами, которые превратились в его общепризнанные обязанности, с его напряженной деятельностью - и новые требования личности, сознающей свою свободу и стремящейся осуществлять ее в признанной извне автономии. Как в дальнейшем будет разрешаться этот великий постоянный конфликт?112 Мысль о пределах государственной власти старше, чем идея естественных прав человека и гражданина. Великая заслуга католицизма в истории человечества - если только здесь можно прилагать понятие заслуги - состоит в том, что он защитил от государственного вторжения известную область духовной жизни людей. Сред невековая церковь была проникнута государственными началами в гораздо большей степени, чем само средневековое государство; мысли о «субъективных публичных правах» мало гармонировали с ее идеей иерархического расчленения общества, где каждому классу и каждому индивиду отведено свое место и свое назначение; и все же именно католическая церковь укрепила в человеческом сознании спасительный дуализм двух авторитетов - духовного и светского. С другой стороны, средневековый быт был так проникнут частноправовыми отношениями, общественная жизнь была так глубоко втиснута в рамки феодального и корпоративного уклада, что, когда полицейское государство разрушило этот уклад и монополизировало в своих руках политическую власть, его победа не устранила целого ряда переживаний и представлений о том, что есть области, лежащие вне его авторитета. Здесь и развивается мысль о пределах государственной власти, и ее не могут подавить ожесточенные опровержения защитников абсолютизма вроде Гоббса. По-видимому, в настоящее время можно считать установленным, что первая ясная формулировка естественных и неотчуждаемых прав индивидуума была дана среди наиболее демократических групп английского протестантизма - так называемых конгрега- ционалистов, из которых вышли позднее индепенденты113. Среди этих групп упрочился принцип полного отделения церкви от государства и автономности церковных общин: они отрицали за государственной властью право какого-либо вмешательства в дела совести. Религиозная свобода, по-видимому, была родоначальницей всех «естественных прав», - факт, который должен был бы остановить на себе внимание адептов исключительно экономического истолкования истории. Признание одной формы свободы не могло не сопровождаться распространением ее и на другие человеческие отношения: логика свободы так же неумолима, как и логика деспотизма... «Вследствие естественного происхождения, - гласит исповедание индепендентов, - все люди в равной мере от рождения имеют право на свободу и собственность»114. В Англии эта идея религиозного освящения естественных прав человека ярко выступает в памятниках кромвелевской эпохи, - но здесь она не привилась: пределы, которые ставили королевскому полновластию Петиция о правах 1628 г. и Билль о правах 1689 г., основаны были на обобщении прецедентов и восстановлении исторического права. Напротив, в Америке идея естественного права своеобразно сочеталась с представлением о договоре, которым основывается государство: этот договор как бы заключают между собой все граждане; они отчуждают только известную часть своих прав, распространяя на себя в этих пределах действие государственной власти; за поставленными же пределами эта власть бездействовала. Здесь же в Салемской общине впервые осуществлено полное отделение церкви от государства, полная религиозная свобода. На этой почве выросли и американские «декларации прав» - отдельных штатов и всего союза115 - декларации, послужившие образцом знаменитому акту французского национального собрания. Можно с успехом доказывать, что так называемые принципы 1789 г. имеют более старое происхождение, но это не уменьшает всемирно-исторического значения работы национального собрания, которая здесь, как и во многих других пунктах, послужила образцом для нового конституционного государства, сменяющего государство абсолютно-бюрократическое. Декларация 1789 г. провозглашает людей свободными и равными от природы; цель государства - охрана естественных неотчуждаемых прав, к которым относятся: свобода, собственность, безопасность и сопротивление насилию. К естественным правам причисляется и народный суверенитет - в том смысле, что всякая законная власть должна быть делегацией народа. Пределы личной свободы определяются лишь свободой и правами сограждан: закон вправе запрещать исключительно вредные для них действия. Закон должен выражать общую волю, быть равным для всех и создаваться при участии всех - непосредственно или через представителей; из общего равенства вытекает и доступность общественных должностей для всех достойных граждан. Ограничения свободы, аресты могут совершаться лишь в законном порядке и с соблюдением законных форм; всякая кара может налагаться лишь по закону, не имеющему обратного действия, всякий гражданин предполагается невиновным, пока суд не докажет противоположного. Всякий свободен исповедовать какую он хочет веру и участвовать в отправлении культа, поскольку последнее не нарушает общественного порядка; всякий также имеет право свободно говорить, писать и печатать, отвечая лишь по суду. Власть содержится на взносы граждан, равномерные для всех и уплачиваемые с общего согласия. Правительство подлежит ответственности перед народом: где ее нет, где права общества не обеспечены и власть не разделена, - там нет конституции. Право собственности ненарушимо и может ограничиваться лишь требованиями общей пользы: во всяком случае, отчуждение какой бы то ни было собственности совершается не иначе, как в законном порядке и за справедливое вознаграждение. Таким образом, декларация 1789 г., как, впрочем, и предшествовавшие ей американские образцы, соединяет два рода положений: одни устанавливают вообще пределы воздействия государственной власти, которая не должна нарушать неприкосновенности гражданина, свободы его совести и слова; другие требуют, чтобы сама власть выражала общую волю граждан: объединяющим звеном служит здесь мысль, что лишь народный суверенитет гарантирует от злоупотреблений власти. Знаменитый американский публицист Джемс Отис, говоря о вечных правах, данных Богом и природой, точно так же соединяет в одну категорию гарантии граждан от злоупотреблений власти и участие их во власти116. Эта двойственность в значительной степени устраняется в позднейших декларациях, например, в бельгийской117, послужившей образцом для многих других: вопрос об участии во власти отделен от вопроса об охране личных прав. Вглядываясь в историю признания прав человека и гражданина, которое в настоящее время нашло место во всех конституционных государствах, мы видим два весьма различных типа в способе их понимания и применения. Один из них всего ярче отражается в английской политической практике: последняя признает такие права, как свобода совести, слова, собраний и союзов, неотчуждаемым достоянием индивидуума, берет их в том положительном содержании, какое они дают индивидуальной свободе. В этом смысле стирается различие между частным и публичным правом: гражданин так же правомочен участвовать в политических собраниях, устраивать союзы, печатать статьи в газетах, как и заключать контракты, совершать коммерческие сделки и т. п. Пределом здесь является лишь нарушение чужих интересов, установленное судом. Иначе понимались эти права в большинстве государств Европы: в них видели прежде всего умаление государственной власти, своего рода капитуляцию ее перед притязаниями различных общественных сил, и они оценивались не по тому значению, какое они имели в индивидуальной жизни, а по тому, насколько они ограничивали государственный авторитет. Всего ярче в этом отношении контраст между Англией и Францией, один из тех контрастов, которые так затрудняют для обитателей обоих берегов Ла-Манша взаимное понимание и взаимную беспристрастную оценку. Эти обе системы нашли себе теоретическое обоснование у юристов: одни сближают так называемое субъективное публичное право с частным - первое составляет как бы продолжение и расширение последнего; другие отрицают самостоятельный характер публичного права: оно существует лишь постольку, поскольку его устанавливает конституция страны, - оно ее рефлекс. В нашу задачу здесь не входит разбор сталкивающихся юридических конструкций, но мы должны отметить два понимания, отражающихся в них: для одного центр тяжести лежит в праве индивидуума, а для другого - в самоограничении государственной власти118. Самый важный вопрос, с точки зрения политической морфологии, заключается в том, какие черты государственного устройства наиболее благоприятствуют обеспечению этих индивидуальных прав. Декларация 1789 г., как и предшествующие ей американские, признавали таким устройство, основанное на принципе народного суверенитета: гражданин бывает истинно свободен лишь тогда, когда власть исходит от всего народа. Здесь ясно видна связь с мыслью Руссо, что гражданин, повинуясь «общей воле», повинуется лишь самому себе. Но если отбросить эту софистическую аргументацию и просто признать, что власть, зависящая от всего народа, обеспечивает каждому сочлену нации наиболее благоприятные условия его индивидуальной жизни, то можно было бы ожи дать, что в странах с октроированным государственным порядком, где политическое самоопределение граждан поставлено в сравнительно тесные пределы, - сами личные права их менее широки и хуже обеспечены. Если мы возьмем группу стран с наиболее типичным октроированным правом, - германские государства, то здесь действительно свобода и собраний, и союзов, и печати - подвергается существенным ограничениям; но это вытекает не из самого признака октроированности, а из того, что обыкновенно при нем бюрократия пользуется более широкой безответственностью. Фактическая безответственность министров, столь типичная, например, для Пруссии, представляет самую темную сторону немецкого конституционализма. Но и формальная ответственность, как и формальное провозглашение принципа народного суверенитета, совершенно недостаточны, если в самом населении не создалось глубоких навыков защищать свои индивидуальные права, глубоких потребностей осуществлять их. Французская Третья республика, несомненно, основана на принципе народного суверенитета, однако она в борьбе с клерикалами не стеснялась постоянно нарушать и неприкосновенность личности, и свободу совести, пользоваться исключительными законами и приемами борьбы, которые при повороте колеса политической судьбы опять могут быть направлены против новых «внутренних врагов». Румыния, вписавшая в свою конституцию принцип народного суверенитета, подавала пример варварского обращения с евреями. А в системе Кальгуна последовательно и широко признанный народный суверенитет мирно уживался с узаконенным рабством. Декларация 1789 г. указывает еще на одно условие, без которого нет защиты для естественных прав, - это разделение властей. На первый взгляд такая связь кажется ошибочной. Современная Англия представляет пример парламентского верховенства: исполнительная власть и суды действуют лишь в пределах, установленных для них, - и, тем не менее, здесь эти права охраняются, безусловно, лучше, чем где-либо в Европе. Отчего это происходит? Просто оттого, что формальный суверенитет парламента на деле ограничивается глубокими навыками, присущими нации, что он не исчерпывает, так сказать, всех возможностей своей власти, что за ним стоит влиятельное мнение избирателей с прирожденным отвращением к вмешательству государственной власти в известные стороны жизни. Противоположный характер представлял суверенитет французского конвента. Декларация прав подчеркивает ту несомненную политическую истину, что сосредоточение власти в одних руках обыкновенно сопровождается неблагоприятными последствиями для гражданской свободы. Многим в настоящее время подобное понимание представляется «буржуазным»; ссылаясь на существующую политическую практику, они доказывают, что разделение власти только замедляет ход прогрессивного законодательства на благо народа: для социальной работы крупного масштаба нужны, дескать, единство и сила власти, а не ее дробление. Развивая эту мысль, мы неизбежно придем к выводу, что наиболее целесообразным орудием для достижения великих социальных целей является диктатура лица или учреждения. Но диктатура и естественные права, очевидно, весьма трудно примиримы, и задача противников буржуазного государственного права состоит в создании такого плана государственной организации, в котором возможность беспрепятственного и смелого социального творчества шла бы рядом с неприкосновенностью индивидуального права. Очень соблазнительно в некоторые моменты истории довериться демократическому цезаризму, но известно, как дорого оплачивалось такое доверие. Обращаясь к отдельным правам индивидуума, мы прежде всего, естественно, подходим к неприкосновенности личности. Это наиболее элементарное право, без которого не могут быть обеспечены никакие другие права; отрицание его является как бы отрицанием законного управления вообще. Право это выражается в разнообразных формах - свободе от незаконного задержания, неприкосновенности домашнего очага, свободе передвижения. В Англии неприкосновенность признана для «свободных людей» уже в начале 13-го в. в Великой хартии вольностей119. На континенте Европы административный произвол - если даже не восходит к lettre de cachet дореволюционной Франции - процветал еще в 19-м в.; он широко применялся в Австрии, Пруссии, второстепенных немецких государствах, Италии, Испании. Введение конституционного порядка всюду сопровождалось официальным отречением от этой системы, но на деле оно исполнялось далеко не одинаково. Дело в том, что если неприкосновенность личности составляет ее элементарнейшее право, то интересы государственного самосохранения, правильно или ложно понимаемые, могут в известные критические моменты побуждать к ограничению ее, и если определение этих моментов зависит от благоусмотрения власти, то она может весьма широко пользоваться этой возможностью. У нее всегда будет искушение управлять тем упрощенным способом, который представляют всякие военные положения, усиленная охрана и т. п.; она идет в этом случае, так сказать, по линии наименьшего сопротивления. Еще Кавур говорил, что с помощью военного положения может управлять страной всякий глупец. Все европейские конституции гарантируют личную неприкосновенность гражданина, но соблюдение эти гарантий тесно связано с тем, насколько затруднительно для правительства применение чрезвычайных мер. В Австрии, например, министерство весьма свободно может провозгласить исключительное положение (Ausnahme- Zustand), причем рейхсрат, однако, может не утвердить его; во Франции исполнительная власть тоже имеет право объявить большое или малое осадное положение (etat de siege), но она подлежит ответственности перед палатами. В Англии не существует вообще закона об осадном положении, подобного французскому; так называемый «Habeas corpus act» может быть приостановлен лишь парламентским постановлением, - причем такая приостановка вовсе не сопровождается отменой конституционных гарантий, не устраняет ответственности действующих при ней властей; она должна быть снята парламентским актом «сложения ответственности» (Act of indemnity). Система эта, вообще, в высшей степени действительным образом обеспечивается денежной и личной ответственностью должностных лиц120. Надо, впрочем, сознаться, что отвращение к исключительным законам, свойственное в настоящее время англичанам, далеко не руководило их ни в Ирландии, ни в колониях121. Некоторые конституции, как бельгийская, содержащая в своем тексте обеспечение индивидуальной неприкосновенности, оговаривают, что ни в целом, ни в частях конституция не может быть приостановлена122, что не исключает, однако, и здесь на практике принятия мер для охраны общественного порядка, которые трудно признать вполне конституционными. И здесь главный вопрос сводится к судебным гарантиям неприкосновенности личности, к организации ответственности власти за нарушения этой неприкосновенности, - и, в особенности, к оценке, которую дает своему праву само население. Борьба за религиозную свободу, как мы видели, оказала огромное влияние на самую идею «естественных прав» человека и гражданина. С великим трудом новое государство заняло позицию религиозного нейтралитета: слишком сложны были его отношения с церковью и слишком глубоки были традиции нетерпимости у этой последней. Католическая церковь устами Пия IX еще в 1864 г. в его знаменитой энциклике и в силлабусе провозгласила неправильность и греховность такого нейтралитета государства. Впрочем, и протестантские исповедания показали не больше терпимости: достаточно вспомнить хотя бы об ожесточенном противодействии уравнению прав лиц всех исповеданий, которое оказывала лютеранская церковь в Швеции, о борьбе за эмансипацию католиков в Англии, достигнутую лишь в 1829 г. Тем не менее конституционные государства всюду провозгласили начала религиозного равенства, - конечно, осуществление его бывает весьма различным. Так, испанская и португальская конституции, признавая католическую религию государственной, не допускают внешних религиозных церемоний других исповеданий123. Итальянская конституция, основанная на Сардинском статуте 1848 г., точно так же признает католическую церковь государственной; но осложнения, возникшие вследствие занятия Рима, разрыв с официальным католическим миром весьма облегчили здесь установление системы религиозного нейтралитета124. Австрийская конституция провозглашает полную свободу совести и культа, но действующие австрийские законы предоставляют привилегированное положение католической церкви, требуют, например, особых знаков почтения к ней125. То же мы видим и за пределами католического мира: датская конституция признает государственной религией лютеранство, сербская и греческая - православие, причем греческая даже запрещает другим исповеданиям всякий прозелитизм126. Наконец, нельзя пройти молчанием английскую «высокую церковь» (high church), хотя в настоящее время ее привилегии чисто имущественные. С другой стороны, мы находим во многих конституциях известные ограничения прав определенных исповеданий - преимущественно католического: следы ожесточенной борьбы католической церкви со светской властью остаются надолго, и государство не считает себя в безопасности от ее посягательств без помощи специальных законов. Так, швейцарская конституция формально запрещает пребывание в стране иезуитам, запрещает также основание новых религиозных орденов и восстановление старых, закрытых (§51-52); мексиканский органический закон 1873 г., хотя и провозглашает отделение церкви от государства и ее самостоятельность, но запрещает все монашеские ордена. Антиклерикальная политика часто идет, несомненно, дальше потребностей государственной самозащиты и приобретает много черт нетерпимости, свойственной положительным вероисповеданиям. Несомненно также, осуществление полной свободы совести и государственного нейтралитета требует отделения церкви и государства, причем все гражданские отношения, в которых до сих пор принимала участие церковь - как регистрация рождений, заключение браков и т. п., - становятся чисто светскими, а с другой стороны, церковь получает полную самостоятельность. Такое положение мы находим в Соединенных Штатах, Бразилии и т. д., и оно не отразилось неблагоприятно на религиозной жизни стран. В настоящее время к этому режиму перешла и Франция; но едва ли при остроте конфликта и при агрессивном характере, присущем как французскому католицизму, так и антиклерикализму, это формальное отделение церкви и государства, осуществленное законом 1905 г., скоро установит действительный мир и терпимость; однако нельзя отрицать, что это все-таки большой шаг вперед, при котором демократическая республика, вероятно, реже будет впадать в искушение нарушать естественные права человека и гражданина. Свобода слова и печати точно так же гарантируются всеми конституциями: они устанавливают лишь судебную ответственность за написанное. И здесь особенно поучительно сравнить различие английского и континентального развития. В Англии, как выражается Дайси, цензура не столько уничтожена, сколько сама собой прекратилась уже в 1695 г. - вместе с уничтожением привилегий той гильдии книгопродавцев - Company of Stationers, - которая одна пользовалась правом печатать. Цензура отменяется не в силу уважения к свободе человеческого слова, столь красноречиво защищаемой Мильтоном в его «Ареопагитике»: цензура отменяется потому, что она «дает возможность обществу книгопродавцев вымогать деньги у издателей, дает право агентам правительства делать домашние обыски в силу общих приказов о задержании, потому, что ограничивает иностранную книжную торговлю лондонским портом, задерживает ценные грузы книг в таможнях так долго, что они покрываются плесенью». Свобода печати рассматривается здесь как частное право: законодатель, усвоив этот взгляд, не считает нужным посвящать ей слишком много внимания. Это не исключает весьма реальной ответственности английской печати перед местным судом присяжных, который, в конце концов, определяет, что является законной критикой и что нарушает закон, ответственности, связанной с господствовавшей в Англии системой залогов, обеспечивших уплату возложенного штрафа. Французская декларация прав 1789 г. признает, что свободный обмен мыслей и мнений есть одно из самых неотъемлемых прав человека: всякий гражданин может говорить, писать и читать свободно, отвечая лишь за злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотренных законом. Провозглашение ценности этого права не помешало, однако, целому ряду всевозможных ограничений - как общих, так и специальных, относительно периодических изданий. Особенно характерен в этом отношении закон о печати 1822 г., изданный в эпоху господства ультрароялистов: правительство получило возможность преследовать не за определенные преступления, совер шенные в газетных статьях, а за общий дух, проявляющийся в ряде статей, каждая из которых сама по себе не могла бы служить поводом для привлечения издания к ответственности. Отношение к печати в эпохи Первой и Второй империи возвращалось к традициям и приемам старого порядка. Государство все время смотрело на печать преимущественно с точки зрения тех неудобств, которые она может доставить власти: только Третья республика выполнила обещание декларации прав 1789 года и создала в 1881 г. соответствующий закон. И эта точка зрения перешла в практику большинства конституционных стран Западной Европы, несмотря на провозглашение свободы печати. В Австрии, например, конституционный закон гарантирует отсутствие цензуры, концессионной системы, и все-таки остаются залоги, посылка номеров газеты в полицию, право власти изъять из обращения произведение печати, причем, однако, такое изъятие должно быть утверждено судом и т. п.; в Италии первый экземпляр всякого напечатанного произведения также посылается в местную претуру; много ограничений установлено также германским законом 1874 г. Судебная ответственность авторов может быть организована таким образом, что от провозглашенной свободы печати останется весьма мало, ибо самое определение признаков преступления печати открывает простор широкому произволу. Известно, какое чрезвычайное растяжимое применение дают в Германии закону об оскорблении императора; здесь не всегда оказывается действительной и самая существенная из гарантий - ответственность перед судом присяжных127. Печать слишком могущественное средство политической борьбы, чтобы власть могла смотреть на нее беспристрастно, и правительство всегда бывает склонно давать самое широкое применение имеющимся у него средствам воздействия против распространения нежелательных для него мыслей и настроений; удерживать его может, наряду с политической ответственностью и правильно поставленной судебной защитой, лишь ответственность перед общественным мнением, ценящим свободу прессы независимо от ее политического направления и готовым ее защищать. Третья форма свободы, о которой умолчала Французская декларация 1789 г., - это свобода собраний и союзов. Пропуск декларации понятен: красной нитью через все революционное законодательство проходит страх перед «корпоративным духом» (esprit de corps). Здесь это законодательство вполне примыкает к Руссо, в глазах которого «для полного проявления общей воли важно, чтобы не было частных союзов в государстве и чтобы каждый гражданин голосовал, следуя лишь своим убеждениям»128. Позднейшие декларации восполняют этот пробел. Так, бельгийская конституция признает за гражданами право «собираться мирно и без оружия, со образуясь с законами, регулирующими это право, не испрашивая, однако, предварительного разрешения. Это постановление не относится к собраниям на открытом воздухе, которые остаются всецело подчиненными полицейским законам. - Бельгийцы имеют право соединяться в ассоциации, и это право не может быть ограничено никакими предупредительными мерами»129. Подобные постановления повторяются во многих конституциях, но со следующими существенными оговорками: собрания на открытом воздухе иногда по тексту самой конституции подлежат предварительному разрешению властей130; что касается ассоциаций, то их свобода весьма существенно ограничивается особым законодательством, которое ее регулирует и которое предусматривается самой конституцией131. Англия и эти права рассматривает с точки зрения частноправовой: она допускает все собрания (в том числе и на открытом воздухе) и все союзы, лишь бы они не нарушали общественной тишины и безопасности. Определение, где начинается это нарушение, всецело принадлежит суду. Полиция здесь не имеет никакого права вмешиваться: ее дело - лишь охрана внешнего порядка. Для свободомыслящего англичанина запретительные французские законы против католических конгрегаций представляются малопонятными и малосимпатичными132. Но Англия и здесь стоит особняком. Недоверие к принципу ассоциации сохраняется во Франции в течение всего 19-го века: правительства, сменявшие друг друга, в равной степени опасались ассоциаций как возможного оружия против себя. 291-294 статьи наполеоновского Code penal карали всякий союз, в который входит более 20 человек, если он устроен без разрешения властей: эти ограничения то отменялись, то снова вводились. Лишь недавний закон 1901 г. гарантирует, по крайней мере, для светских ассоциа ций, сравнительно широкую свободу, - но все правительственные традиции во Франции в высшей степени неблагоприятны для такой свободы. В Германии подобных традиций не сложилось, но там мы обыкновенно находим со стороны правительства ревнивую охрану своей власти от всяких дальнейших уступок в пользу народного представительства, - а свобода политических ассоциаций есть, несомненно, могущественное средство усилить это представительство. Характерно, что германская имперская конституция вообще не устанавливает принципа свободы ассоциаций, хотя и отмечает, что законодательное упорядочение ассоциаций принадлежит к компетенции империи, а не отдельных государств (II. Art. 4, 16). Особенно ограничена свобода политических союзов в Австрии; они подвергаются мелочной регламентации: им, например, запрещено открывать филиальные отделения, вступать во взаимные соглашения, иметь в бюро менее 5 и более 10 человек. Свобода собраний и союзов находится также в теснейшей связи с тем, насколько легко или трудно для данного правительства приостановить конституционные гарантии, ввести военное положение, получить исключительные полномочия, при которых эта свобода всегда весьма ограничивается. Не менее важно и то, насколько глубоко проникла в население потребность иметь общение друг с другом, образовывать ассоциации, насколько эти последние стали уже элементами национальной жизни133. Такая потребность особенно сильно выражена в Англии, Америке и других англосаксонских государствах. Рост этой потребности в нации необходим для всякого культурного и жизнеспособного государства, ибо национальная энергия и предприимчивость могут всего легче проявляться в ассоциациях, создаваемых для разных материальных и культурных целей; даже с точки зрения успеха в международной борьбе требуется привычка действовать в них, требуется широкая свобода их. Наконец, свобода союзов есть, по-видимому, единственная почва, на которой могли бы примириться все растущие требования государства, которые оно предъявляет к индивидууму, и все растущее у последнего сознание своих прав; она устраняет беззащитность отдельного гражданина перед лицом всемогущего государства. Мы указали на главные формы «необходимых свобод», предоставленных в современном конституционном государстве в более или менее полной мере члену государственного союза. В текстах деклараций и конституций мы встречаемся с некоторыми другими видами их. Сюда, прежде всего, относится свобода петиций. Право это некогда было драгоценным: оно в зачаточной форме давало обществу известное влияние на законодательство и управление, - у английской палаты общин 13-го и 14-го вв. было в руках лишь такое право законодательных петиций134; но теперь, при наличности, с одной стороны, правильного представительства, а с другой - свободы прессы, собраний, союзов, оно в значительной степени потеряло свое значение. Его нельзя смешивать по политическому весу с правом законодательной инициативы, ибо петиция, поданная исполнительной власти и парламенту, ни к чему их не обязывает, - не обязывает даже к обсуждению вопросов, указанных в петиции. Достаточно указать на петиции чартистов с миллионами подписей, которые отказывалась рассматривать палата общин, и на петиции с требованием избирательной реформы, обращенные в эпоху июльской монархии к французской палате депутатов. Заметим при этом, что конституции, даже весьма либеральные, существенно ограничивают право коллективных петиций, предоставляя его лишь законом установленным организациям135. Свобода национального языка, гарантированная в бельгийской и австрийской конституциях, поскольку речь идет об употреблении его не в частной жизни, а в учреждениях и школах, не может уже считаться чисто индивидуальным правом: субъектом его является известная племенная группа, - и осуществление этого права зависит от весьма сложных условий, - напр., культурной высоты данного языка и т. п.136. Свобода науки и ее преподавания, установленная в австрийской и прусской конституциях, есть, бесспорно, один из важнейших, необходимейших и драгоценнейших видов свободы; но она отчасти заключается в свободе слова и собраний, а отчасти связана с учебной организацией страны, определяющей права и пределы государственного контроля относительно школ. В настоящее время в Европе нет страны, где было бы, так сказать, полное отделение школы от государства, полное предоставление школы частному почину и частному руководству137. Неоднократно указывали, что декларация прав не должна ограничиваться лишь этими отрицательными, так сказать, принципами, ставящими пределы государственному вмешательству; член государственного союза имеет естественное право не только на необходимую свободу, но и на положительное удовлетворение его потребностей государством. Нельзя не сказать, что идея естественного права человека и гражданина может обосновывать в своих выводах целый ряд обязанностей государства перед гражданином, - обязанность заботиться, чтобы он не погиб в борьбе за существование, а, напротив, имел достойные условия человеческой жизни. Это постулат социальной морали, и он в зачаточной форме осуществляется современным рабочим законодательством, обязательным обучением и вообще всеми мерами, направленными на защиту трудящихся масс138; но, хотя этот социальный постулат вытекает из идеи естественного права, трудно ставить его рядом с такими правами, как свобода совести, слова, собраний, союзов, которые именно полагают пределы государственному полновластию и потому осуществляются несравненно легче. Право на труд, например, которое провозгласил конвент и Вторая французская республика, требует крайне сложной экономической организации и известного уровня производительных сил страны, без чего такое провозглашение превращается в благое пожелание. Несомненно, многие из принципов и программных пожеланий современного социализма по духу родственны декларации прав, но едва ли логично и практически полезно вводить их именно сюда139. Наконец, очевидно, декларации, возникающие на различных исторических почвах, ставят различные пределы правительственному всевластию, сообразно с тем, какие конкретные интересы гражданина или определенного класса наиболее страдали от этого всевластия, и отсутствие каких именно прав было для них особенно чувствительно. Так, австрийская конституция 4 марта 1849 г. под влиянием произведенной ликвидации крепостных отношений ввела в перечень основных прав граждан свободу от всяких подобных отношений и свободу приобретения недвижимой собственности, - постановление, перешедшее и в основной закон о правах граждан 1867 г. (§ 7). Таким образом, мы обозрели главное содержание так называемых основных прав человека и гражданина. Все они вписаны в основные законы конституционных государств в весьма сходных выражениях, но фактическое обеспечение их далеко не везде равно и одинаково. Главным условием такого обеспечения является, прежде всего, организация судебной защиты против случаев нарушения этих прав. Далее следует политическая ответственность высших представителей власти - министров - перед представителями народа за такие правонарушения. Но все это оказывается вполне действительным лишь в том случае, если вся нация проникнута сознанием важности этих индивидуальных прав, сознанием великой опасности, происходящей от нарушения их государственной властью, и готовностью их защищать. Страна Европы, где субъективные публичные права более всего стали национальным неотчуждаемым достоянием и где защита их организована наиболее действительным образом, - есть, бесспорно, Англия, - и этой одной черты достаточно, чтобы объяснить нам политический ореол, который до сих пор не утрачен Англией в глазах континентальных исследователей и наблюдателей. * * * Мы рассмотрели общий характер распределения власти в современных конституционных государствах. Эти государства могут быть основаны на началах октроированного порядка или народного суверенитета; население может участвовать в политической работе непосредственно или через своих представителей; конституция страны может быть гибкой, т. е. изменяться в том же порядке, как и обыкновенные законы, или малоподвижной, причем для ее изменения устанавливаются особые сложные условия; вся власть может сосредотачиваться в руках центрального правительства или быть разделена между ним и местными органами или несамостоятельными государствами, входящими в федеративный союз; наконец, могут быть более или менее признаны и обеспечены субъективные публичные права граждан и, соответственно, ограничена правительственная власть. Все указанные различия конституционных государств дают основы для особой классификации - дают возможность расположить ряд государств по тому, насколько сильно в их устройстве развито то или другое начало. Всюду получаются постепенности и переходы, и всюду политико-морфологическое рассмотрение не сходится со строго юридическим, основанным на точном разграничении фиксированных понятий. Мы могли отметить, что известные свойства политических организаций часто встречаются совместно, например, непосредственное участие в законодательстве обычно соединяется с народно-суверенным характером конституции. Однако эти ряды признаков едва ли можно свести к более общим свойствам, из которых вытекали бы многообразные различия политических организаций, и едва ли мы можем в настоящее время выйти из области довольно эмпирических обобщений. Наша ближайшая задача сводится теперь к тому, чтобы рассмотреть распределение власти между отдельными органами конституционного государства. Немногие вопросы вызвали такую обширную литературу, как вопрос о разделении властей, немногие обобщения политического опыта встретили более ожесточенные нападки и более горячую защиту. Нам и здесь нет никакой надобности становиться на юридическую почву. Несомненно, власть в государстве по своему источнику едина, но несомненно и то, что она может быть распределена различно. Изучать это распределение мы можем двояко: по органам и по функциям. Оставаясь на почве политической морфологии, мы, естественно, идем по первому пути. Классическая схема, данная Монтескье, по которой парламенту принадлежит власть законодательная, а правительству - власть исполнительная, от которой отделяется судебная, - дает весьма неточное представление о жизни конституционного государства. Деятельность представительных собраний отнюдь не исчерпывается законодательством. Бэджгот, например, говорит, что в работе английского парламента законодательство занимает совершенно второстепенное место. Деятельность правительства, конечно, также не исчерпывается исполнением изданных законов: оно направляет самую законодательную работу. Наконец, суд есть, несомненно, правительственный орган. Тем не менее, мы можем принять эту традиционную схему, считая ее лишь весьма приблизительно верной, и изучать взаимное распределение власти между органами законодательными, исполнительными и судебными; во всех конституционных государствах закон все-таки применяется правительством, и судебная власть пользуется известной - большей или меньшей - самостоятельностью. Подробное изучение различий в организации и компетенции этих учреждений дает нам возможность распределить конституционные государства по новым типам и подготовить материал для их рациональной классификации; и здесь познание форм есть необходимая ступень, подготовляющая к познанию жизни, совершающейся в этих формах. Печатается по изданию: Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора. - СПб.: Типография Альтшулера, 1907. С. 80-101.
Котляревский Сергей Андреевич (23.07(4.08). 1873- 15.04.1939) - историк, теоретик права, общественный деятель. Окончил историко-филологический ф-т Московского ун-та (1896), с 1900 г. - приват-доцент кафедры всеобщей истории. В 1904 г. защитил докторскую диссертацию («Ламенне и новейший католицизм»). Стоял у истоков создания партии кадетов, с 1905 г. - член ее ЦК. Избирался депутатом I Государственной думы. В 1906 г. участвовал в основании франкмасонской ложи «Возрождение» в Москве. После сдачи экстерном экзаменов на юридическом ф-те Московского ун-та защитил в 1907 г. магистерскую («Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора»), а в 1909 г. докторскую диссертацию («Правовое государство и внешняя политика»). В 1908-1917 гг. работал приват-доцентом курсов Герье, читал лекции по истории Франции и международных отношений. После Февральской революции К. был комиссаром Временного правительства по инославным и иноверным исповеданиям, входил в состав Лиги русской культуры. С июля 1917 г. - товарищ обер-прокурора Синода и товарищ министра вероисповеданий.
К Октябрьской революции отнесся враждебно. Один из авторов сб. «Из глубины». Участвовал в деятельности ряда антисоветских организаций, был приговорен к 5-летнему условному заключению. Впоследствии заявил о своей лояльности советской власти, работал в Институте советского права, журнале «Советское право», Московском ун-те. По обвинению в контрреволюционной пропаганде расстрелян. Философские основания мировоззрения Котляревского - эклектичны: позитивизм и социал-дарвинизм сочетаются с кантианством. Испытал влияние Л. Гумпловича. В философии права развивал идеи естественно-правовой школы. В отличие от большинства юристов-неокантианцев, считавших право главной опорой политико-правового порядка, Котляревский обосновывал др. положение: власть и право являются равноправными субстанциями, их роль в общественном устройстве равновелика. И власть, и право одинаково глубоко укоренены в человеческой природе. Дуализм власти и права приобретает особое значение в условиях правового государства. Несмотря на то, что государство во многом представляет собой «культурно-этическую ценность», оно в огромной степени связано с насилием и стихией эгоизма . Никогда право, по Котляревскому, не подчинит себе государство полностью, не сделает власть окончательно правовой. Внеправовая природа государства ярко проявляется в международных отношениях, особенно в условиях войны. С одной стороны, наличие правового государства предполагает «сознание у граждан ценности права», «любовь к праву», «борьбу за право», что практически означает ценность человеческой личности и ее правовую защищенность, но с другой - признание ценности личности невозможно без сильного государства. Внеправовая природа государства, полагал он, порождает деспотизм. Основными средствами против узурпации власти Котляревский считал отнюдь не формальные юридические механизмы (принцип разделения властей и систему сдержек и противовесов), а само общественное правосознание, содержащее в себе чувство справедливости и ощущение причастности к гармонии божественного миропорядка.
В. Н. Жуков
Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014, с. 297-298.